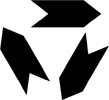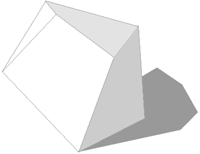|
→ |
 КТО ТАМ ИДЁТ? | ©
Станислав Фурта
КТО ТАМ ИДЁТ? | ©
Станислав Фурта
…Ему показалось, что от того момента, как Данзас отдёрнул тяжёлую портьеру,
и до того, как он зажмурился, прошла вечность. Там было утро. Яркое свежее
морозное зимнее утро. Он не мог видеть, как освещает низкое солнце бронзовую
макушку ангела на вершине Александрийской колонны, как на другом берегу
Невы вырастают в неверном розоватом свете серо-голубые очертания Меншиковского
дворца, как ранний ломовой извозчик, кашлянув в толстую рукавицу, лениво
стегает дышащую паром мохнатую лошадёнку, как жемчужно искрится снег у
решётки Летнего сада. Он видел только луч, один единственный луч, пробивший
толстое стекло окна его кабинета на набережной Мойки. Ему казалось, что
он видел, как приближается к нему этот луч, как летит к нему этот небольшой,
величиной с пятак сгусток света. Луч ударил ему прямо в глаз. Он зажмурился
и слегка наклонил голову. Луч осветил его покрытый испариной лоб. Он понял,
что пережил эту страшную ночь. Он вспомнил, как хотел, чтобы было утро,
когда его привезли. Сейчас было утро. Замечательное зимнее утро. И солнечный
свет отражался на потолке Бог знает от чего, как он хотел. Всё остальное
стало неважно…
- Константин Карлыч, там у меня на столе стоит малахитовая шкатулка, в
ней много всякой мелочи, но есть среди неё бирюзовое колечко, очень красивое
бирюзовое колечко. Воиныч, Нащокин подарил. Талисман от насильственной
смерти. Возьми его и носи. А пока достань перо и бумагу. Ты ещё в лицее
слыл каллиграфом. Я немного отдышусь, и мы поработаем. Пора отдавать долги
по-настоящему.
На лице Данзаса заходили желваки.
- Я хочу драться с Дантесом. Если не посадят в крепость, я буду драться
с Дантесом.
Пушкин поморщился, потом улыбнулся и медленно покачал головой. Луч, остававшийся
всё это время на его челе, два раза проскользил от правого до левого виска.
- Есть ли у тебя по крайней мере какие-нибудь пожелания по поводу обоих
Геккернов?
- Есть, Данзас. Оставь их в покое. Не мсти за меня. Я всё простил. А теперь
возьми перо и пиши: «Коллежский секретарь, дворянин Пушкин Александр Сергеевич
на 28 января года 1837-го должен…»
Всё стало неважно… Большинство вещей потеряло для него всякую ценность.
Хороших и плохих. Он стал воспринимать мир с каким-то отрешённым безразличием,
как человек, навсегда уезжающий из своего города, воспринимает смещение
попечителя богоугодных заведений. И даже физическая боль, по-прежнему
продолжавшая терзать его, отошла будто бы на второй план. Он по-прежнему
стонал и изгибался всем телом, лоб его покрывался испариной, когда она
приступом стискивала его изнутри, но сама природа её перестала его волновать.
Вокруг него сновали люди. Много разных людей. Он любил их всех, но какой-то
своей, им недоступной любовью. Словно прозрачная стена разделяла их. Он
мог смотреть на них, разговаривать с ними, дивиться их поступкам, но эти
их поступки, вся их жизнь, не влияли больше на него… Он мог оставаться
таким, каким хотел сам. Ему не приходилось делать над собой никаких усилий,
встречая улыбкой Спасского, когда тот приходил к нему и просил проглотить
кусочек льда или приложить пиявку. Он делал всё сам с неизменной готовностью,
понимая абсолютную бесполезность и льда, и пиявок. Приезжал Арендт, осмотрел
его, покачал головой и снова назначил настойку опия. Пушкин и его встретил
благодарной улыбкой. Утром заехал Жуковский передать разговор с Государем.
Пушкину было приятно узнать, что Царь обещал сделать всё, что в его силах,
чтобы смягчить участь Данзаса. Но не то чтобы Пушкина перестала волновать
судьба друга, но он встретил это известие, как непосредственно его, Пушкина,
не касающееся. Впрочем, он был искренне благодарен Царю. Он поднял вверх
руки и, обращаясь к Жуковскому, произнёс:
- Вот как я утешен! Скажи Государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования,
что я желаю ему счастия в его России, - но внутренне Россия была для него
столь же далеко, как и Персия.
Около его постели то и дело толпились друзья. Жуковский, Вяземский, Плетнёв,
Данзас, Даль, Тургенев, Вильегорский. Он улыбался и им, пожимал руки,
подмечая, однако, что Вяземский всхлипывает, Плетнёв всё ещё пытается
его подбодрить, а Тургенев отводит взгляд и, заложив руки за спину, переминается
с ноги на ногу. Он был рад им всем, как бывают рады пришедшему издалека
письму.
Лишь один визит тронул его по-настоящему. Ему сказали, что приехала Екатерина
Андреевна Карамзина. Он мог бы, наконец, многое рассказать ей. О том,
что он чувствовал, написав ту записку, и что испытал, когда эту записку
вернул ему её муж, почитаемый им Николай Михайлович. Он мог бы рассказать,
как всё оборвалось у него внутри, когда он упал перед ней на колени там…
тогда… у одного из деревьев… на одной из аллей… одного из царскосельских
парков. Но не скажет он ей ничего этого, пусть останется это с ним, в
его новом прозрачном существовании. Да и зачем волновать женщину, десять
лет как вдову, столь давними историями? Она тихо вошла, спокойная, статная,
всё ещё сохранившая остатки былой красоты. Он слабо улыбнулся ей, но не
так, как улыбался другим.
- Хочу, чтобы вы благословили меня.
Он протянул ей руку, и она протянула ему свою. Её ладонь была сухой и
горячей. Он слегка пожал эту ладонь, столь давно бывшую предметом его
юношеского обожания. Екатерина Андреевна ответила нежным пожатием. Будь
это несколько часов назад, он бы подумал: «Вот если бы тогда…» Но сейчас
это «тогда» было не здесь, а где-то далеко, оно осталось на тех аллеях
в ином мире, ином измерении, и не могло быть возвращено даже в мыслях.
Она перекрестила его, нежно касаясь пальцами его тела. Он махнул рукой,
чтобы она уходила. У двери она обернулась и снова осенила его крестом,
тогда он тихо произнёс:
- Перекрестите ещё.
Она подошла и снова коснулась его, осенив крестным знамением. Он взял
её ладонь, прижал к щеке и долго держал. Потом поцеловал и снова махнул
рукой. Она ушла.
Потом Пушкин несколько раз проваливался в мягкую ватную темноту. Там было
приятно, но его всё время выдёргивали оттуда, то врачи со своими компрессами,
пиявками и настойками, то друзья и домашние, которые всё никак не могли
с ним попрощаться, то возвращающиеся приступы боли. Он не хотел возвращаться
– там было уютно, а когда он возвращался, ему всегда становилось трудно
дышать, но не сердился на них, потому как понимал, что всё окружение его
жило по своим понятиям и законам.
Раз очнувшись, он увидел сидящую у своей кровати женщину. Это была княгиня
Долгорукова. Пушкин снова улыбнулся. При виде её в его голове пронеслась
мысль, которую он долго пытался ухватить. Что-то ещё связывало его с тем
суетным внешним миром, что-то ещё держало его. Да! Его держало ЭТО… Он
повернулся к княгине и тихо произнёс:
- Я попрошу вас об одолжении. Я мог бы попросить об этом кого-либо из
своих друзей, но женщины лучше справляются с такого рода миссиями. Пожалуйста,
поезжайте в дом к Дантесам и скажите, что я всё прощаю…
Когда он вышел из забытья следующий раз, была глубокая ночь. В кресле
дремал Данзас. По-видимому, он ненадолго сменил Даля, сидевшего подле
него почти неотлучно. В кабинете было так тихо, что он слышал как колышется
пламя свечи. «Я умираю», - сказал он себе, - «Какая она, смерть? Есть
ли у неё цвет, запах, форма? Я всегда думал, что когда буду умирать, кто-то
встанет у моей кровати. Но здесь никого нет, кроме старины Данзаса, и
тот задремал. Так, значит, я не умираю? Но я же точно знаю, что умираю…
А почему? Потому что боль ушла и холодеют ноги… Я не могу ошибиться. Но
почему никого нет? А, может быть, и ТАМ никого нет? Может быть, смерть
– это сон? Глубокий сон, и нет никакого Страшного Суда? Нет ни рая ни
ада, ни ангелов, ни чертей, ни эдемских садов, ни котлов с кипящей смолой?
Есть только глубокий летаргический сон…»
Сон отрадный, благовещий –
Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить…
«Почему же рядом нет никого, даже моего незнакомца? Может, я не умираю?»
Он сам пощупал себе пульс – пульс был слабым.
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
«Господи, слышишь меня? Ответь мне, милосердный Боже, умираю ли я? И что
есть смерть, Господи? Простил ли ты меня, Господи? Ведь я опять согрешил.
После исповеди согрешил, Господи! Примешь ли ты меня в Царство Твоё, и
где оно Твоё Царство? Будет ли на то воля Твоя, Великий Отче? Что, что
я могу ещё сделать, чтобы Ты не отвернулся от меня?»
Успокой меня творец.
Но Твоя да будет воля,
Не моя…
- …Но Твоя да будет воля, не моя… - повторил Пушкин.
- Что? Что ты, Пушкин? – протирая спросонья глаза, спросил Данзас.
- Скажи, думаешь ли ты, что я сегодня умру?
Данзас молчал.
- Дай воды попить, в горле пересохло.
Пушкин жадно глотнул несколько раз, потом сказал:
- Я думаю… По крайней мере, желаю этого.
Он не заметил, что она стоит в дальнем углу кабинета. Там, откуда обычно
приходил незнакомец. Она подошла к нему и опустилась на колени. Молча
взяла его руку и начала по одному целовать его пальцы. Пушкин взглянул
ей в глаза. Глаза были её, хорошие, цвета тёмного мёду, разве что припухшие
от слёз и бессонницы.
- Ну что ты, Таша… - он опять назвал её этим детским именем, - Твоя жизнь
не кончается. Поезжай в деревню, носи траур по мне два года, а потом выходи
замуж за порядочного человека. Не за пустозвона. Обещаешь?
Чтобы не разрыдаться, она только помотала головой.
- Ну вот, а теперь я хочу проститься с детьми.
|
1
2
3
4
5
6
7
↑
8
↓
9
10 |